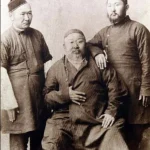- 01.03.2022
- Категория: Статьи

Рано утром 17 июля 2019 г. участники научно-исследовательской экспедиции, организованной Областным историко-краеведческим музеем г. Семей вместе с сотрудниками телеканала “Семей” выехали на двух автомобилях в Урджарский район Восточно-Казахстанской области.
Наблюдая cменяющиеся виды ландшафта и минуя населенные пункты, мы на короткое время прервали свой путь и остановились на площадке у родника перед перевалом, близ которого на вершине холма виден мемориал, возведенный над могилой легендарного Кушикбай-батыра. Предание о нем изложено в рассказе “Qorğansız’dıñ küni” (в переводе на русский язык “Сиротская доля”) замечательного казахского писателя Мухтара Ауэзова.
Загородная гостиница “Маралды”, в столовой которой мы обедали, расположена близ аула Аршалы (Arşalı, букв. ‘Можжевельниковое’), до 1993 года известного под названием Криуши. Это прежнее название небольшой деревеньки стало темой этимологического спора, возникшего в салоне нашего автомобиля, когда члены экспедиции продолжили свой путь в южном направлении.
Один из участников дискуссии был убежден, что топоним Криуши возник в результате искажения ныне устаревшего казахского слова kireşi, букв. ‘извозчик’ (от kire ‘извоз; наемная подвода’ < арабск. ﮐﺮﺍﺀ kira’ ‘наем; арендная плата’), синонимом которого выступала однокоренная лексема kirekeş ‘извозчик; человек, занимающийся перевозкой груза на наемных подводах или вьючном животном’ [1, c. 425]. Аул, располагающийся на пути между городами Семей и Аягуз, получил название Kireşi якобы из-за того, что некоторые жители этой деревни занимались извозным промыслом. По предположению другого собеседника, в основе обсуждаемого топонима могла лежать синтаксическая конструкция Qırıq üş üy, букв. ‘Сорок один дом’, значение которого было обусловлено числом дворов в упомянутом селении.
Дополняя быстро возникшую в нашем небольшом коллективе картину плюрализма мнений о происхождении рассматриваемого слова, посчитал вполне уместным поделиться со своими спутниками еще одной интересной версией, которую мне довелось услышать в прежнее время. Одна жительница Жарминского района на вопрос, какой смысл может заключаться в названии Криуши, ответила кратко по-казахски: Qıysıq qulaq, то есть, она искренне полагала, что сей топоним образован из словосочетания Кривые уши.
Все три приведенные интерпретации следует считать истолкованиями, имеющими характер народной этимологии, т.е. неверными. Подтверждение этому выводу легко найти, обратившись к топонимии европейской части России, где ойконим Криуши встречается как название некоторых деревень и сел. Помимо заинтересовавшего нас географического имени, имеющего окончание ‑и, существует полтора десятка населенных пунктов, которые носят аналогичное название, но в форме единственного числа – Криуша. Оно же выступает в качестве гидронима – на западе Российской Федерации ряд небольших рек известны под названиями Кривуша или Криуша.
Исследователи выяснили, что слово “кривуша” означало изгиб русла реки либо кривой овраг, пересекающий или опоясывающий поселение. Сведения, собранные В.И. Далем, позволяют говорить о наличии полисемии у данной лексемы: жители некоторых исконно российских регионов использовали слово кривуша в трех значениях: 1) род косули – тяжеловатой, однобокой сохи; 2) горбуша, короткая коса; 3) человек, пашущий кривушей.
В районе деревни Капан-булак все внимание проезжающих привлекает пребывающий в стадии завершения светлый мавзолей батыра и талантливого оратора Боранбай-бия, участника войны с джунгарскими захватчиками. Умер он в 1807 году в возрасте 98 лет. Бий Боранбай был одним из семи народных судей. Известно, что он внес большой вклад в реализацию политики Абылай-хана, стремящегося получить независимость и добиться единства казахского государства. Нельзя не отметить, что это великолепное монументальное сооружение возведено в среднеазиатском архитектурном стиле.
Местные краеведы встретили нашу группу у красочной скульптуры знаменитой “урджарской принцессы”, жившей в IV–III в. до н.э., чье захоронение в виде находившегося под древним могильным курганом каменного саркофага было обнаружено близ села Лай-булак и вскрыто археологами в 2013 году. Ученые единодушны в том, что самым интересным и ценным из найденных в этом погребении артефактов оказались остатки тиары с золотым изображением мифической птицы.
Статуя молодой скифской женщины установлена на постаменте у обочины автомобильной дороги, недалеко от места, где производились археологические раскопки.
Первый объект, осмотренный членами экспедиции и местными краеведами, представляет собой образующие прямоугольную конфигурацию земляные валы и параллельные им рвы, оставшиеся от старинного укрепления, располагавшегося между нынешними населенными пунктами – селом Науалы и аулом Ельтай, который в советское время назывался Сталин жолы, затем – Коммунизм жолы. Судя по оставшимся следам, въезд и проход внутрь крепости можно было осуществить с трех сторон. Перед входами на небольшом расстоянии, были возведены дугообразные ограды, видимо, препятствовавшие прямой атаке возможного неприятеля с целью захвата территории оборонительного сооружения. Со слов краеведов, длина каждой из сторон укрепления достигала 365 м. Оно располагается недалеко от мелководной речки Тамды, на берегах которого произрастают кустарник и деревья. Отметим, что гидроним Tamdı образован от слова tam ‘дом; гробница, могила’, что свидетельствует о нахождении близ речки огражденного стенами захоронения или купольной могилы.
Пребывание в степи под палящим солнцем и недостаточный запас питьевой воды заставил ощутить некоторый дискомфорт, но купание в неглубоком водотоке вернул некоторых из нас в бодрое состояние духа.
Полагают, что осенью 1856 года Чокан Валиханов, отправившись в Кульджинскую экспедицию, проезжал по этим местам и упомянул в своих записях название Найман–кала (букв. “Крепость найманов”). К сожалению, в Собрании сочинений талантливого казахского ученого и путешественника, изданном в 1984–1985 гг., мне не удалось обнаружить это упоминание.
Осмотренные нами валы, по словам краеведов, принадлежали крепости, именовавшейся Найман-кала. Однако в литературе встречается сообщение, что близ речки Кусак в 20 километрах от села Урджар в средние века располагался город Найман-кала. Следует также отметить, что в Алматинской области в 2 км на северо-восток от села Арасан находится памятник истории и культуры XI–XII вв. с аналогичным названием – городище Найман-кала.
Вероятнее всего, фортификационное сооружение, остатки которого были осмотрены нами, относится к исторической эпохе, когда маньчжуро-китайские войска династии Цин, разгромив Джунгарское ханство, появились на территории Восточного Казахстана.
Ойраты (калмаки), во время Третьей ойратско-маньчжурской войны (1755–1759 гг.), в результате которой было уничтожены Джунгарское государство и большая часть его населения, по вполне понятным причинам решили заключить мирный договор со своими западными врагами – казахами. Недалеко от современного города Аягуз на берегу речки Батпак-су представители двух народов в 1756 г. (или в 1755 г., по другой версии – 1760–1761 гг.) пришли к соглашению о мире (bitim), которое впоследствии стало известно как Qandıjap bitimi – названное так в память о погибшем в этой местности ойратском хане. Были проведены переговоры и совершен обряд примирения. По народному обычаю бывшие враги принесли в жертву серого жеребца и черноголового барана, их кровью омыли руки. Казахи и ойраты поклялись поддерживать дружбу и подписали мирный договор. Реку Batpaq-suw, букв. ‘Топкая река’, переименовали в Mamır-suw. Новое название воспринимается ныне в смысле ‘тихая (спокойная) вода’. Существует менее вероятная версия о происхождении гидронима от ойратской (калмакской) лексемы со значением ‘изобилие’.
Слово mamır, заимствованное из арабского языка (ﻤﻌﻣﻮﺮ mağmūr), имеет значения ‘возделанный, обработанный; цветущий, благоустроенный; населенный’, лексема suw используется не только в прямом смысле ‘вода’, но и как географический термин (‘река, речка’), нередко входящий в состав тюркских гидронимов.
Основанная в период российской колонизации казахских земель небольшая станица и крепость, стены которого были возведены в 1831 г. на правом берегу реки Аягуз в 5 километрах юго-восточнее города Аягуз, превратились в село, носившее с 1860 г. название Сергиополь. В память об историческом событии с 2007 г. это село стало именоваться Мамыр-су.
Договором, известным как Mamır suw bitimi, называли казахско-китайские переговоры в 1758 (по другой версии – 1757) и 1762 годах. Однако некоторые историки смешивают оба упомянутых договора (Qandıjap-Mamır suw bitimi atalıp jürgen 1758, 1762 jılğı qazaq-qıtay kelissözderi).
Необходимость приведения исторической справки об упомянутых договорах объясняется характером приведенных ниже сведений, по всей вероятности, имеющих непосредственное отношение к интересующему нас объекту.
Известный тюркский историк и этнограф Курбангали Халид в своем знаменательном труде ﺸﺮﻗﻰ ﺨﻤﺴﻪﺀ ﺘﻮﺍﺮﻴﺦ “Tawārīh-i hamsa-yi şarqī” (Пять историй Востока), связывая договор – Mamır suw bitimi – с маньчжурской династией Цин, сообщает об укреплении с жильем, которое построили возвращавшиеся после заключения договора китайцы в окрестности нынешней крепости Урджар (qazirgi Urjar qamalı mañınan – по словам автора) – в местности Тамдыи назвали ﺒﯿﱠﺎﺮˉ Bäyar. По мнению упомянутого автора, это гибридное название представляет собой сокращение словосочетания bäy yar, образованного из китайского слова bäy ‘белый’ (по-китайски 白 bái ‘белый’) и тюркского ﯿﺎﺮ yar ‘яр, берег, обрыв’. Далее он пишет, что китайский гарнизон покинул крепость: из-за тяжелых климатических условий пришельцы испытали здесь немало страданий и подверглись лишениям. Зимой случались лютые морозы, выпало много снега, в результате чего имевшийся у них скот погиб, воины остались без верховых и вьючных животных. Ученый отметил, что в то время горы Тарбагатай занимали представители ойратского племени торгаутов, и приводит этимологию оронима Tarbağatay ‘Сурочьи [горы]’ и ойконима Şäweşek, букв. ‘Деревянная чашка’ (Чугучак), в переводе на казахский язык – saptı ayaq ‘деревянная чаша с ручкой’ [2, c. 131–132].
Остановились на ночлег в одной из гостиниц Урджара и утром выехали из села в степь с целью обследования песчаных дюн близ реки Эмель (от монгольск. emeel ‘седло; перевал’, по-казахски Yemil, в китайской письменности гидроним представлен в виде 额 敏 河 Émǐn hé), впадающей в озеро Ала-коль. Расположенное в Китае верховье этой реки образуется двумя истоками – Sarı Yemil ‘Желтый Эмель’ и Qara Yemil ‘Черный Эмель’. Длина водотока около 250 км, в число притоков входят речки Кёк-су и Чугучак.
На берегу реки среди дюн, где в далекие эпохи неолита и бронзы укрывались от холодного ветра полуземлянки древних насельников края, обнаружены три фрагмента древней керамической посуды и два нуклеуса зеленоватого цвета со следами отщепления микролитических пластин. Один из нуклеусов оказался разбитым, его осколки разлетелись по сторонам на участке примерно в 2 квадратных метра и лежали тысячелетия на песчаной поверхности, ожидая нашего прихода.
Подъем в 4 часа утра следующего дня; собрали свои вещи и покинули гостиницу. Наша исследовательская группа, несколько увеличившаяся за счет местных участников, уже на трех легковых автомашинах прибыла на опорный пункт “Älet” Государственного национального природного парка “Tarbağatay”, созданного в 2018 году с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия региона, имеющего сложный рельеф местности и включающего южные предгорья Тарбагатайского хребта, бассейны рек Урджар, Катын-су и Эмель.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Inform.kz, на территории парка выявлено 1 640 видов флоры, в том числе много лекарственных растений. Здесь произрастает более 35 видов эндемичных растений, включенных в Красную книгу. Обширный участок природного ландшафта характеризуется разнообразной фауной, включающей 376 видов позвоночных животных. Под защитой государства находятся 19 видов рыбы, 23 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 272 вида птиц, 60 видов млекопитающих, из них 40 видов животных включены в Красную книгу Казахстана [3].
Сотрудники парка не только уделяют особое внимание сохранению и увеличению численности такого ценного в научном, культурном и хозяйственном отношении вида дикого животного, как казахстанский горный баран – архар (латинск. Ovis amon Linnaeus), но, помимо исполнения иных служебных задач, заботятся о яблоневом питомнике. Ведь здесь произрастает дикий плодовый вид предгорных яблонь, о которых упоминал немецкий ботаник Иоганн Сиверс (1793). На территории Казахстана эта яблоня в основном растет в Заилийском и Джунгарском Алатау. Вызывает беспокойство заключение исследователей о значительном сокращении площади ее распространения по причине нелегальной вырубки лесов в предгорьях.
Яблоня Сиверса (Malus Sieversii) является диким предком многих культурных сортов яблок, и вывод о том, что прародиной яблони домашней является Семиречье (Jeti-suw), вытекает из теории знаменитого ученого-генетика Н.И. Вавилова, основоположника учений о биологических основах селекции и о географических центрах происхождения культурных растений. В 20-х годах прошлого века исследователь побывал в наших краях и выяснил, что природно-климатические условия Семиречья оптимальны для возникновения транзитных форм развития плодового дерева от диких яблонь до культурных видов.
С помощью ДНК-анализа современные ученые установили, что известные 2500 сортов яблони домашней происходят от яблони Сиверса. Вместе с тем, другой ДНК-анализ показал, что дикая лесная яблоня также внесла определенный вклад в происхождение яблони домашней [4].
Плоды и саженцы яблони, собранные в предгорьях Заилийского Алатау, по древним торговым маршрутам Шелкового пути попадали во многие страны, затем распространились по всему свету, подвергаясь некоторым генетическим изменениям; в результате применения разных методов селекции возникали новые сорта [5].
Вместе с плодами фруктового дерева многие народы восприняли его исконное обозначение – тюркское слово alma, адаптируя его в соответствии с фонетической системой родного языка. Например, в индоевропейских языках этот древний тюркизм подвергся метатезе: alma > *amla ~ *ablă ~ *mală (датск. æble, норвежск. eple, исландск. epli, английск. apple, немецк. äpfel, др.-ирландск. aball, ирландск. úll (мн.ч. úlla), галльск. avallo, бретонск. aval, латышск. ābols (ābele ‘яблоня’), русск. яблоко < праславянск. *ablъko из *āblu-, греческ. μήλα, латинск. mālum (мн.ч. māla, mālus ‘яблоня’), итальянск. melа (мн.ч. mele), румынск. măr (мн.ч. mere), албанск. mollë, ср. венгерск. alma, ингушск. alma, марийск. olma, чувашск. ulma, удмуртск. ulmo, монгольск. alim и т.д.).
На базе национального природного парка “Älet” участники экспедиции и краеведы позавтракали, погрузили снаряжение и продукты на заранее оседланных лошадей и в сопровождении двух инспекторов Государственного природного парка, образовав кавалькаду из двенадцати человек, отправились в горы, миновав речку с крутыми берегами и двигаясь вверх, порой даже и вниз по извивающимся на склонах гор узким тропинкам, которые нередко были завалены скатившимися с вершин камнями.
Случалось, что подкованные копыта лошадей скользили на небольших валунах, перекрывающих наш нелегкий путь, – они приседали на задние ноги либо припадали на одну из своих передних конечностей. В таких случаях опытные всадники восклицали: Ey, januwar! – ‘Эй, животное!’. Следовало быть осторожным, помнить об опасности упасть вместе с лошадью, снаряжением и покатиться вниз по склону или сорваться в одно из ущелий, результатом чего могла быть серьезная травма и даже гибель человека и верхового животного. Но ощущение явного риска не мешало нам любоваться замечательным по своей красоте горным ландшафтом.
Было очень жарко, и лошади, несущие на себе всадников и нелегкий груз, вскоре стали мокрыми от пота; по широко раздувающимся ноздрям и шумному дыханию животных можно было судить об их утомленности. Лишь сопровождавшая инспекторов беззаботная овчарка, по всей видимости, чувствовала себя неплохо.
Особенно тяжелым путь оказался для двухлетнего гнедого жеребенка, которого нагрузили сверх меры. Иногда приходилось слезатьи вести его под уздцы. Ведь и человеку идти вверх по крутому склону горы, даже налегке, было затруднительно. Когда двухлеток, не выдержав нагрузок, рухнул на передние ноги, два тяжелых мешка с продуктами и большой рюкзак были переданы другим участникам экспедиции, остались лишь притороченные к седлу чехлы с палаткой и надувным матрацем.
После небольшого отдыха на площадке, где мы встретили чабана с отарой овец, наш отряд двинулся дальше по узкой каменистой тропинке, огибающей склоны вершин. Преодолев на своем пути долину с пологими заросшими склонами Tas-say, букв. ‘Каменная балка’, перевал Qumdı-kezeñ ‘Песчаная расщелина’ и другие сложные участки горной местности, наконец, поднялись на небольшое плато под названием Aq-perili’niñ bası ‘Вершина [горы] белых духов-пери’ (краткий вариант Aq-perili ~ Aq-berili).
Один из жителей села Науалы сообщил, что в давние времена в этих местах жил бахсы по прозванию Aq-perili, т.е. ‘Имеющий в услужении белых пери’, который ежегодно проводил шаманский обряд жертвоприношения для предотвращения дождей, чтобы пастухи могли без больших затруднений погнать свои стада и табуны высоко в горы.
Поднявшись на плато, мы увидели первые рисунки древних эпох. Проехав дальше, остановились у скального останца, чтобы сфотографировать скопление петроглифов с изображением диких животных. Остальные проехали к ложбине, по дну которой вниз в ущелье стекает ручей Kürkireme, букв. ‘Грохочущий’ (обычно так называют водопады, которые образуются на отдельных участках русла горного ручья).
Несмотря на знойный летний день, на вершине в нескольких местах лежали небольшие островки, состоящие из массы чистых белых крупинок – снежных кристаллов, едва присыпанных редкой каменной крошкой. Неподалеку медленно двигался по плато табун пасущихся лошадей.
У скальных возвышений близ ручья, где находился каркас чабанского коша (временного жилья пастуха), сделанный из очищенных от коры тонких гибких стволов, мы разбили свой лагерь. Со слов инспекторов природного парка, расстояние от нашего местонахождения до села Уджар составляло примерно 35 км. В беседе с одним из них выяснилось, что среди зарослей на дне ущелья Jılı şat, букв. ‘Теплое узкое ущелье’, которое мы видели по пути к месту стоянки, бывал медведь.
На поиск наскальных рисунков с целью их фотофиксации было потрачено гораздо меньше времени благодаря тому, что осмотр местности осуществлялся группой лиц, перемещавшихся по плато на лошадях. Нередко из разных мест слышались призывы, свидетельствовавшие о том, что кто-то из участников экспедиции обнаружил очередное интересное изображение, совокупность близкорасположенных рисунков и даже сложную композицию.
Обилие разнообразных гравировок, сохранившихся на вершине горы в виде отдельных фигур, нескольких рисунков или скоплений петроглифов, позволяет предполагать, что их число приближается к пятистам. Несомненно, в этих сакральных местах, близких к небесам, родовые шаманы совершали мистические обряды, приносили богу и духам в жертву животных, просили у бога покровительства, выражали мольбу об увеличении количества диких животных, удачной охоте и защите от происков нечистой силы.
Чаще всего среди наскальных рисунков встречаются фигуры горных баранов-архаров, диких козлов-таутеке, гораздо реже – антропоморфных духов, всадников, охотников, натягивающих лук, лошадей, собак, верблюдов, оленей и змей. Весьма малочисленны солярные знаки. Одно из изображений было интерпретировано мной как рисунок крылатой собаки, образ которой известен в мифологии некоторых народов Евразии. Наскальные изображения ориентированы на разные стороны света.
Касаясь проблемы датировки древних петроглифов, можно более определенно говорить лишь относительно изображений двух колесниц, выполненных в традиционной для них манере.
У края плато были найдены и сфотографированы фигуры, условно названные нами “Адам и Ева”. Характер небольшой композиции позволяет видеть в ней схематичное изображение прелюдии к иерогамной сцене соития мифологической пары.
Вероятно, уникальны по своему характеру некоторые отдельно лежащие камни – на их покрытой черной патиной поверхности видны параллельные извилистые линии, рядом с которыми нарисованы фигурки разных животных. Эти сложные композиции кажутся примитивными топографическими картами горной местности, основное назначение которых – изображение горных троп.
Пройдя к западной окраине плато, с высоты горной вершины можно увидеть простирающуюся на многие километры равнину, на которой располагаются близлежащие села и районный центр Урджар.
Поиск и фотографирование петроглифов Ак-перили продолжалось и на следующий день. Однако по сотовой мобильной радиосвязи поступило сообщение об ухудшении погоды в районе Талдыкоргана, на основе которого возникло мнение о вероятности перемещения с юга к Тарбагатаю грозовых облаков. Пребывание на горном плато под проливным дождем – незавидный удел для кого бы то ни было. Кроме того, все осознавали, что спуск всадников вниз на равнину по влажным каменистым тропам мог в любой момент привести к падению человека и верхового животного со склона горы, получению ими серьезной травмы и даже к летальному исходу. Эти опасения вынудили нас свернуть лагерь и покинуть плато Ак-перили.
Проводники (местные краеведы) приняли решение двигаться к посту “Älet” иначе – через перевал Tik-asıw, букв. ‘Крутой перевал’. На обратном пути с горного хребта один из инспекторов природного парка заметил еще одно место с петроглифами. Наше внимание привлекли водопад, образуемый потоком одного из горных ручьев, и массивный продолговатый камень, вертикально стоящий на выступе над скальным обрывом.
Временами на опасных участках пути вынужден был слезать с лошади и вести ее под уздцы. Однажды, заскользив вниз по каменной крошке, упал навзничь и едва не оказался под передними ногами животного, которое, к счастью, успело остановиться.
При спуске с крутого берега в горную речку приходилось сильно отклоняться к пояснице лошади, упираясь ногами в стремена, чтобы не упасть через ее голову вниз; при подъеме на не менее обрывистый противоположный берег следовало припадать к шее животного, в противном случае вполне реальным был риск выскользнуть из седла и, задевая спиной лошадиный круп, рухнуть вниз головой в воду.
Наконец наша кавалькада оказалась у подножья горы, и условия для движения стали более благоприятными. Было предложено сократить путь, перемещаясь по заросшей кустарником и деревьями предгорной местности. По едва заметной тропинке мы долго ехали друг за другом через густую высокую траву, небольшие рощи, мимо зарослей кустов, нередко отклоняя от своего лица ветки растущих у тропы деревьев.
По прибытии на опорный пункт “Älet” члены экспедиции немного отдохнули, утолили жажду, загрузили свои вещи в автомобили, попрощались с сотрудниками национального природного парка и отбыли в село Урджар.
Сопоставление одной необычной фигуры, обнаруженной мною среди петроглифов плато Ак-перили (Тарбагатай), с каменным рельефом из села Атени (Грузия), изображающим пару крылатых собак, с рисунком мифического животного на шёлковой ткани, хранящейся в Музее Виктории и Альберта (Англия) и с аналогичными образами, нашедшими отражение в материальной культуре некоторых народов Востока, позволяет трактовать хотя и лишенную изящества, но древнюю и уникальную наскальную гравюру как изображение фантастической собаки-птицы, известной в мифологии и фольклоре народов Востока под названиями samır, simır, sên-murv [6].
Истоки генезиса гибридного образа собаки-птицы кроются в суеверных представлениях, отраженных в лексике. Обратимся к казахскому составному словуiyt–qus, букв. ‘собака–птица’, используемому до сих пор сельскими жителями в качестве иносказательного упоминания волка. Появление этого выражения было обусловлено древним убеждением, которое стало причиной табуирования слова со значением ‘волк’: скотоводы боялись произносить название хищника, якобы понимающего язык людей. Услышав свое имя, беспощадный зверь мог явиться на неосторожный “призыв” и погубить домашних животных. С другой стороны, быстрый в беге волк уподоблялся птице, способной стремительно летать.
Вопросы этнологического характера, решаемые в последний день нашей экспедиционной поездки в Урджарский район, были связаны с информацией о проживании представителей родаçala-qazaq в селе Науалы.
После опубликования статьи “О происхождении этнической категории “чала-казак” [7, c. 22–27] известный профессор Семейского государственного университета им. Шакарима А.И. Исин заинтересовался проблемой происхождения этнической группы людей, возводящих своё происхождение к некоторым из тех татар, которые переселились на территорию Восточного Казахстана из Казанской губернии в период, предшествующий Октябрьскому перевороту.
Молодая женщина, работающая продавцом в одном из магазинов, пояснила, что она родом çala-qazaq и ее родственники проживали в селе Сергиополь (ныне Мамыр-су). На вопрос, относит ли себя к племени nayman, на землях обитания которого изначально поселились ее предки, ответила отрицательно.
Антропологический тип нашего первого информанта свидетельствует о заметной в ней примеси калмакской крови, особенно усилившейся на востоке Казахстана после падения Джунгарского ханства, когда уцелевшая часть ойратского населения устремилась сюда. Те из беженцев, кто впоследствии принял христианство и новые имена при крещении, были ассимилированы русскими; остальные калмаки со временем смешались с близкими по modus vivendi (кочевому образу жизни) казахами.
Более подробную информацию нам удалось получить от коренного жителя Науалы, который рассказал о происхождении местного рода çala-qazaq. С его слов, чтобы избежать рекрутской повинности и длительной солдатской службы в российской армии, особенно трудной для инородцев, несколько татарских юношей бежали в дальние края. Сами они и их потомки жили среди близких по языку, происхождению и вере гостеприимных и доброжелательных людей, в среде которых впоследствии растворились. Однако, как это до сих пор принято у казахов, помнят о своих родовых корнях, хорошо знают şejire, т.е. родословие. Собеседник рассказал о генеалогическом древе и сопроводил нас на своем автомобиле до родового кладбища, расположенного в долине реки Кусак.
От старых захоронений, представлявших собой могильные бугорки, осталась лишь сломанная у основания гранитная стела с арабографической надписью и датой – 1887. По преданию, на этом месте был убит молнией один из татарских переселенцев. Когда весть о горестном событии достигла родственников, оставшихся в Казанской губернии, те заказали камнерезам надгробный памятник и доставили его на место гибели. По этой причине погребения усопших членов особенного рода çala-qazaq, не входящего в состав племени nayman, находится далеко от сельского кладбища, которое граничит с автомобильной дорогой.
Представитель рода çala-qazaq также сообщил, что слышал о других родовых подразделениях с аналогичным названием, назвав села Маканчи и Таскескен. Здесь следует отметить, что автору ранее уже довелось узнать о существовании родового подразделения şala-qazaq из рода mambet племени nayman и этнической группе киргизских чала-казаков.
Завершив все дела, связанные с целью и задачами экспедиции, наша группа отправилась в обратную дорогу. Хотя домой я попал за полночь, это обстоятельство не могло омрачить чувство удовлетворения от результатов нашей научно-исследовательской поездки.
Использованная литература
- Қазақша-орысша сөздік / Ред. Р. Сыздықова, К. Хұсайын. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
- Құрбанғали Халид. Тауарих хамса (Бес тарих) / Ауд. Б. Төтенаев, А. Жолдасов. – Алматы: Қазақстан, 1992.
- Зухра Нуржан-кызы. В Восточном Казахстане открылся Национальный парк «Тарбагатай» // https://www.inform.kz/ru/v-vostochnom-kazahstane-otkrylsya-nacional-nyy-park-tarbagatay_a3436934
- Яблоня домашняя // https://ru.wikipedia.org/wiki/Яблоня_домашняя
- Казахстан – родина яблок и тюльпанов // Н.А. Назарбаев. Семь граней Великой степи. – Ноябрь, 2018 г.
- Тревер К.В. Сэнмурв-Паскудж, собака-птица. – Л.: Государственный Эрмитаж, 1937.
- Илиуф Х.Ш. О происхождении этнической категории “чала-казак // Этнография Алтая и сопредельных территорий: Материалы VIII международной научной конференции. – Барнаул: АлтГПА, 2011.